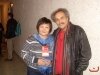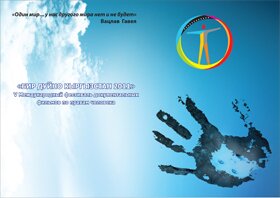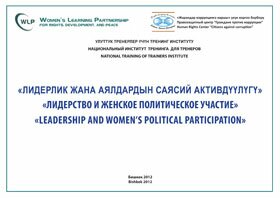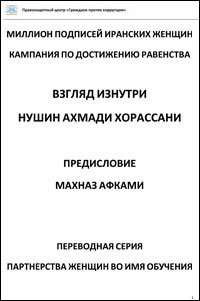В начале февраля текущего года президентом Алмазбеком Атамбаевым был подписан указ «О государственной стратегии антикоррупционной политики КР и мерах по противодействию коррупции». Данным шагом президент обозначил борьбу с коррупцией как один из основных приоритетов своей деятельности. Однако первые же шаги президента в данном направлении, в том числе ранее созданная Антикоррупционная служба при ГКНБ КР, а также сам факт издания упомянутого указа вызвали дебаты в СМИ, среди депутатов Жогорку Кенеша, в стенах государственных органов. В чем полезность принятия указа и стратегического документа по борьбе с коррупцией, меняются ли подходы с принятием новых вариантов стратегий, и какая роль отводится гражданскому обществу в новой стратегии – эти вопросы автор обсуждает в предлагаемой статье.
Контекст очередной борьбы с коррупцией
Обозначение борьбы с коррупцией в инаугурационной речи президента А.Атамбаева в качестве одного из основных приоритетов его деятельности на посту президента страны было ожидаемым, поскольку вопрос о коррупции стоял в числе основных на повестке революционных событий и 2005, и 2010 гг. Всякий раз, когда менялась власть, мы слышали призывы к бескомпромиссной борьбе с коррупцией и обещания руководства уменьшить коррупцию в стране.
Угаснут ли надежды людей в очередной раз или все-таки борьба с коррупцией сдвинется с мертвой точки, предстоит еще увидеть. Без массовой поддержки населения, конечно, не стоит ожидать серьезных изменений, поскольку какой бы сильной ни была политическая воля руководства, этого недостаточно, чтобы коррупция уменьшилась. Но еще более важно, чтобы в обществе сложился консенсус по поводу вопроса, с чем нужно бороться, с какими проявлениями коррупции, с какими ее видами и какими методами. Для успешности борьбы важно не только представлять коррупцию в виде некоего абстрактного монстра, а представлять конкретные проявления коррупции, борьба с которыми будет выгодной для всех.
На сегодняшний день нельзя сказать, что инициатива президента и его стремление бороться с коррупцией полностью понятны всем. С одной стороны, вряд ли можно найти в республике человека, который не говорил бы о вреде коррупции и необходимости беспощадной борьбы с ней. С другой стороны, по поводу действий президента не наблюдается согласия в обществе, прежде всего, в стане самой власти.
Объявленная президентом война коррупции наталкивается на непонимание и даже противодействие со стороны других ветвей власти. Начались дискуссии о том, чьей прерогативой является борьба с коррупцией, некоторыми депутатами Жогорку Кенеша были озвучены мнения, подвергающие сомнению юридические полномочия президента издавать указ о борьбе с коррупцией из-за смены формы правления по новой Конституции. Были подвергнуты критике действия президента по созданию антикоррупционной службы при ГКНБ. В свою очередь, сами депутаты охотно допускают «правомочность» парламента на определенные действия, которые, строго говоря, не входят в его полномочия. Сложившаяся ситуация вокруг антикоррупционных инициатив президента напоминает некую «борьбу с борьбой».
Другими словами, мы наблюдаем откровенную конкуренцию и борьбу, в которую вовлечены президент, Жогорку Кенеш и правительство. Складывается ситуация, при которой ни Конституция, ни законы никому не указ. Система госуправления становится полем, на котором идет неприкрытое нарушение законов. Учитывая, что общество пока не особенно реагирует на эту борьбу, складывается впечатление о том, что борьба с коррупцией имеет отношение только к системе властных институтов, где основные «игроки» борются друг против друга.
Данная ситуация является отражением незавершенного институционального строительства, прежде всего, незавершенности политической институциональной модели. С одной стороны, мы формально имеем новую (парламентскую) форму правления. С другой стороны, система сдержек и противовесов между ветвями власти недостаточно простроена и на практике дает многочисленные сбои. Традиции управленческой культуры, неконгруэнтность формальных институтов власти с неформальными правилами и нормами, господствующими в нашем обществе, постоянно дают о себе знать. Поэтому не удается выработать согласованную политику по многим важным вопросам, в том числе и в сфере борьбы с коррупцией.
Отсутствие политического консенсуса по поводу целей и приоритетов борьбы с коррупцией является одним из основных рисков антикоррупционной борьбы.
В таком контексте насколько полезным может быть принятие стратегического документа по борьбе с коррупцией, в чем особенности принятой стратегии, чем она отличается от ранее принятых аналогичных документов, и в чем риски реализации данной стратеги? Об этом ниже.
Опыт разработки стратегий борьбы с коррупцией в Кыргызстане: изменились ли подходы?
Ряд законов, имеющих отношение к вопросам борьбы с коррупцией, был принят еще до ратификации Кыргызской Республикой Конвенции ООН против коррупции. В частности, это Закон КР «О борьбе с коррупцией» (2003), Закон КР «О государственных закупках» (2004), «О государственной службе» (2004), Закон «О декларировании и публикации сведений о доходах, обязательствах и имуществе лиц, замещающих политические и иные специальные государственные должности, а также их близких родственников» (2004). Был введен институт статс-секретарей (2004), в полномочия которых входило обеспечение вопросов подготовки и повышения квалификации государственных служащих и соблюдение госслужащими профессиональной этики.
В 2005 г. Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН против коррупции. В связи с данным фактом Кыргызстан взял на себя обязательство привести национальное законодательство в соответствие с Конвенцией ООН. Определенные шаги в этом направлении были сделаны, но процесс гармонизации международных норм с нормами национального законодательства шел трудно, противоречиво и непоследовательно.
Хотя между основными подходами Конвенции ООН и законами КР (Закон КР «О борьбе против коррупции», Уголовный кодекс КР) существовало сходство в описании проявлений коррупции, национальное законодательство страдало весьма существенными пробелами. В частности, в Кыргызстане не рассматривались в качестве коррупционных преступлений злоупотребление влиянием в корыстных целях и незаконное обогащение.
Конвенция ООН достаточно широко рассматривает проблемы достижения прозрачности, включая такие ее аспекты, как предупреждение коррупции в государственном и частном секторах, прозрачность в вопросах госзакупок, управления государственными финансами, публичной отчетности государственных органов, сотрудничества с гражданским обществом, повышения стандартов служебной этики госслужащих. Конвенция также рассматривает меры по повышению независимости судебной ветви власти и органов прокуратуры.
Большинство из этих пунктов, в том числе такие важные, как предупреждение коррупции в частном и государственном секторах, а также прозрачность государственных закупок и управления государственными финансами, не были отражены в Законе о «О борьбе против коррупции» и УК КР либо отражены в усеченном виде.
Некоторые важные вопросы, отраженные в Конвенции касательно коррупции в частном секторе, также либо не отражены в национальном законодательстве, либо им даны слишком общие трактовки. Определенные несоответствия международного и национального законодательства касались таких проблем, как подкуп и хищения в частном секторе, сокрытие собственности, полученной в результате коррупционных действий, отмывание доходов.
В 2006 г. был опубликован отчет «Анализ антикоррупционного законодательства Кыргызской Республики» под эгидой Программы правовой инициативы для стран Центральной Европы и Евразии Американской Ассоциации Юристов (ABA/CEELI). В данном отчете был предпринят анализ антикоррупционного законодательства КР, в частности, Закона КР «О борьбе с коррупцией», соответствующих статей Уголовного кодекса КР на предмет соответствия положениям Конвенции.
В отчете было обращено внимание на недостаточное соответствие национального законодательства Конвенции ООН против коррупции, на отсутствие конкретных инструментов и индикаторов, позволяющих оценивать степень реализации положений Конвенции. Этот же отчет обращал внимание на то, что в законодательстве КР нет единого определения коррупции.
После ратификации Конвенции ООН против коррупции в Кыргызстане была принята первая Государственная стратегия борьбы с коррупцией (2005). В Плане действий этой стратегии был поставлен ряд задач, многие из которых не решены по настоящее время, несмотря на сохранение актуальности. В числе первоочередных мер предусматривалась и работа по приведению национального антикоррупционного законодательства в соответствие с международными обязательствами страны, выявление и преодоление противоречий антикоррупционного законодательства, меры по изучению и диагностированию коррупции, меры по предупреждению коррупции в разных сферах, расследованию коррупционных преступлений.
С 2005 по 2012 гг. было издано три указа президента страны, утвердивших три варианта текстов стратегии. Названия документов немного менялись. Так, если в 2005 г. (указ и.о. президента КР от 21 июня 2005, № 251) документ назывался Государственной Стратегией борьбы с коррупцией в Кыргызской Республике, в 2009 г. президентом Бакиевым был подписан указ (от 11 марта 2009 г. № 155), которым утверждалась Национальная Стратегия борьбы с коррупцией в Кыргызской Республике. В 2012 году 2 февраля президент Атамбаев подписал новый указ «О государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики».
Структурно все три текста стратегий имеют большое сходство, во многих местах они идентичны. Практически совпадают понятия коррупции, общие подходы к борьбе против коррупции, задачи и цели стратегии, вводные положения, анализ ситуации. Применяется понятие коррупции в широком смысле – как любое использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в личных целях, противоречащее установленным законам и правилам.
Между предыдущим текстом стратегии (2009) и нынешним (2012) также отмечается сходство в выборе первоочередных мер в борьбе с коррупцией. Это сокращение и упорядочение регулятивных функций государства и реформа оплаты труда государственных служащих в сторону ее повышения и изменения тарифной сетки при сокращении государственного аппарата, которая будет сопровождаться реформой системы подбора, обучения и расстановки кадров. В обоих вариантах стратегии среди основных приоритетов превентивные меры и общественная поддержка названы как наиболее действенные.
Разумеется, в каждом из документов есть определенные изменения формулировок, которые, главным образом, актуализировали те или иные моменты в соответствии с произошедшими изменениями законодательства и политической конъюнктуры.
Например, в тексте стратегии 2009 г. в части описания законодательной и институциональной базы борьбы против коррупции указан вступивший в 2006 г. Закон «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем». Исполнение последнего закона возлагалось на Службу Финансовой разведки КР.
Отдельные пункты из документа 2005 г. не перешли в документ стратегии 2009 г. или, наоборот, некоторые пункты были заменены, изменены или дополнены. В разделе о расследовании коррупционных преступлений в сфере финансов, например, убрали пункт о создании сети подразделений внутреннего аудита в структуре исполнительных органов власти для выявления фактов коррупции, а также создания возможностей для непрерывного и свободного сотрудничества между органами финансового контроля и аудита. В сфере расследования коррупционных дел в правоохранительных и судебных органах и вооруженных силах в 2009 г. были включены пункты об обеспечении на автодорогах республики поэтапного внедрения автоматизированного видеонаблюдения за дорожным движением и создания единой автоматизированной информационной системы судебных органов, введения автоматического (электронного) распределения дел в судебных органах.
В тексте стратегии от 2009 г. выделялись следующие сферы, где коррупция имеет свою специфику и требует отдельных антикоррупционных мер:
- политическая деятельность;
- администрирование;
- государственные финансы;
- судебные, правоохранительные органы и вооруженные силы.
В каждой из этих сфер предусматривалась реализация мер по четырем направлениям: предупреждение коррупции, общественная поддержка, расследование коррупционных преступлений, международное сотрудничество.
Текст «новой» стратегии (2012), имея большое сходство со стратегией 2009 г. в анализе ситуации факторов, порождающих коррупцию, в общих подходах к борьбе против коррупции, оценках ущерба от коррупции, еще больше заостряет вопрос о социальных, политических и экономических последствиях коррупции.
В тексте новой стратегии дополнительно названы принципы стратегии, главными из которых являются признание коррупции одной из главнейших угроз национальной безопасности Кыргызской Республики; использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и по минимизации последствий коррупционных действий; конкретизация антикоррупционных положений законов, Государственной стратегии антикоррупционной политики в правовых актах органов государственной власти, органов государственного управления и местного самоуправления.
В разделе о законодательной и организационной основе антикоррупционной борьбы в документе стратегии 2012 г. говорится о декларативности существующего законодательства и необходимости принятия совершенно нового закона против коррупции и ряда других антикоррупционных законов[1].
Анализ факторов коррупции в стратегии 2012 г. указывает на то, что коррупция стала составной частью механизма государственного управления. Однако анализ факторов ограничен. Не упоминаются такие важные факторы, порождающие коррупцию, как отсутствие прозрачности и подотчетности органов государственной власти и официальных лиц, раздутость государственной бюрократии, правовые факторы, в том числе слабость и коррумпированность судебной системы и правоохранительных органов. Недостаточно сказано и о теневой экономике, о том, какие виды теневой экономики существуют, и борьба с какими ее видами имеет наибольшее значение с точки зрения уменьшения уровня коррупции.
Для Кыргызстана очень важно определить приоритеты, которые, на мой взгляд, должны состоять в акценте на коррупцию в верхних эшелонах власти. Не низовая коррупция, а именно системообразующая коррупция должна стать основной мишенью стратегии и антикоррупционного законодательства. Это, в свою очередь, предполагает сопротивление со стороны участников сложившихся коррупционных практик, что требует от стратегии и плана действий четких и целенаправленных решений конкретных задач.
В стратегии 2012 г. нет плана действий. Даны общим списком лишь направления выполнения стратегии без разделения, как в тексте стратегии 2009 г., по сферам деятельности и направлениям работы. В списке направлений работы ничего кардинально нового, кроме пункта о создании комитетов гражданского контроля, не предлагается. Перечисляются в общих терминах меры по повышению уровня правового сознания и культуры населения, в том числе в учебных заведениях, меры по устранению факторов коррупции в государственном секторе, повышения эффективности госслужбы, служебной этики и ответственности должностных лиц, меры по разработке и внедрению технологий и методов борьбы с коррупцией, профилактика коррупционных явлений, совершенствование правоприменительной практики, улучшение деятельности судов, совершенствование форм антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов.
План действий по новой стратегии предполагается выработать совместными усилиями ветвей власти – в том числе Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, правительством Кыргызской Республики, Верховным судом Кыргызской Республики, а также органами местного самоуправления.
Наличие согласованных позиций по антикоррупционной политике между ветвями власти важно и необходимо для успешной реализации стратегии, однако определенное неприятие со стороны отдельной части депутатского корпуса вызвал тот факт, что стратегия утверждена указом президента. Отдельными депутатами ЖК были озвучены сомнения в юридической правомочности подобных действий президента, за которыми последовали возражения о том, что президент предпринимает подобные действия в рамках своих конституционных полномочий.
Важно отметить, что, несмотря на то, что предыдущие варианты стратегии борьбы с коррупцией имели планы действий по реализации, даже беглое прочтение планов покажет, что многие пункты не были выполнены. Несмотря на формальное наличие планов действий, по сути все три варианта антикоррупционной стратегии являются во многом декларативными, а не практическими документами.
На декларативность указывает преобладание общих задач, отсутствие конкретных задач, а если они указаны, то не указываются сроки выполнения, нет конкретных ответственных лиц или не указана система контроля и ответственности за реализацию стратегии и ее задач.
Практические антикоррупционные стратегии, которые существуют в мировой практике, имеют ряд общих характеристик таких документов. Практические стратегии акцентируются не на постановке диагноза или обсуждении проявлений и последствий коррупции, а на причинах и источниках коррупции, на системном подходе, а не выборочных мероприятиях.
Практическая стратегия должна учитывать конкретные потребности страны, ее контекст, возможные ресурсы страны, опираться максимально на внутренние ресурсы и внутреннюю экспертизу. Стратегия должна поддаваться оценке и контролю за ее исполнением. Практическая стратегия должна указывать на источники ресурсов для ее реализации.
Гражданское участие и общественная поддержка: отражение в трех вариантах антикоррупционной стратегии
Борьба с коррупцией может идти успешно, если в этой борьбе участвует общество и если проводимая антикоррупционная политика имеет массовую поддержку граждан. В этом смысле вопрос гражданского участия очень важен.
Во всех трех текстах в качестве приоритетных направлений стратегии называются общественная поддержка реализации стратегии и роль институтов гражданского общества. В целях и задачах трех вариантов стратегии указаны создание механизма координации антикоррупционных усилий государственных органов и институтов гражданского общества. На практике данное положение практически никогда не было реализовано или реализовывалось весьма фрагментарно и конъюнктурно.
Анализ того, какие подходы применялись к участию общественности в реализации национальных стратегий по противодействию с коррупцией, весьма интересен и важен, особенно в контексте участившихся лозунгов об усилении гражданского контроля.
В стратегии 2005 г. вовлечение общественности в борьбу с коррупцией предполагало активизацию роли СМИ как «естественных врагов коррупции», реализацию превентивных мер, в том числе разработку антикоррупционных учебных материалов для школьников, студентов, взрослых, общественные кампании, организацию горячих линий. Были также отмечены поддержка таких механизмов гражданского участия, как общественные слушания и регулярные консультации перед принятием важных решений, особенно в сфере регулирования налогов. Само понятие гражданского контроля в 2005 г еще не упоминается, и стратегия не содержит четких обязательств государства по сотрудничеству с гражданским обществом в борьбе с коррупцией.
В стратегии от 2009 г. в дополнение к обозначенным формам гражданского участия были включены две новые формы участия общественности. Это образование института общественных инспекторов и образование в каждом государственном органе комиссии по предупреждению коррупции.
В новой стратегии 2012 г. в списке направлений работы первым пунктом указано привлечение институтов гражданского сектора к работе по противодействию коррупции в обществе путем создания комитетов гражданского контроля, которые предполагается превратить в действенный инструмент по предупреждению коррупции. Пожалуй, это самое конкретное и в определенном смысле «новое» направление работы по борьбе с коррупцией. Перед Советом обороны была поставлена задача до 1 апреля 2012 г. разработать проект типового Положения о комитетах гражданского контроля и внести на утверждение президенту.
В стратегии присутствует озабоченность и критика по поводу того, что созданные комиссии по этике и общественные наблюдательные советы в государственных органах не стали действенным антикоррупционным инструментом в силу «формального и поверхностного выполнения своих полномочий».
Трудно сказать, что данное утверждение основано на серьезном анализе работы общественных наблюдательных советов, созданных при президенте переходного периода. Тем более что неизвестно, какова концепция комитетов гражданского контроля, в чем их предназначение, чем они будут отличаться от общественных наблюдательных советов и что в них будет такого, что превратит их в действенный антикоррупционный орган. Будут ли иметь что-то общее эти комитеты с так называемыми комитетами народного контроля, которые существовали в советские времена в совершенно другом правовом поле и другой системе социально-экономических отношений? Одним словом, в чем будет новаторство этой идеи? Кто гарантирует, что следующий президент не упразднит их и не предложит что-то свое?
Обсуждая вопрос о роли и месте гражданского общества в борьбе с коррупцией, часто упускается из виду вопрос участия частного сектора. Во многих странах причиной отсутствия прогресса в сокращении масштабов коррупции являются ни ошибки стратегических документов, ни отсутствие политической воли, а недостаточная поддержка антикоррупционной политики со стороны общества, в том числе бизнес-сектора.
Между тем, именно частный сектор часто является жертвой коррупции, поскольку коррупция деформирует рыночные механизмы, затрудняет добросовестную конкуренцию, планирование, она вынуждает бизнес-структуры постоянно маневрировать, идти на коррумпированные действия, пользоваться теневыми практиками ведения бизнеса, что подрывает легитимность бизнеса в глазах общественности. А это прямой фактор социальной напряженности и, если можно так выразиться, обострения классовой борьбы. Бизнес-сообщество во многих странах является естественным союзником НПО и гражданских организаций в борьбе против коррупции. Конечно, ситуация Кыргызстана специфична. И это также большой риск в борьбе против коррупции. Мы являемся переходной страной с уязвимой экономикой, в которой легальная и теневая экономика в ее разновидностях причудливо переплетены, где государственная служба и бизнес часто имеют стертые границы. Поэтому интересы бизнес-структур часто могут не совпадать со стремлением гражданских организаций бороться против коррупции. Тем не менее, для тех, кто мыслит долгосрочными горизонтами, должно быть понятно, что коррупция в долгосрочном плане мешает развитию, в том числе, и самого частного сектора.
Обобщение и выводы:
Итак, в 2005 г. Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН против коррупции. В числе основных обязательств было обязательство по приведению национального законодательства в соответствие с принятыми на себя международными обязательствами. Несмотря на определенные попытки гармонизации национального законодательства с положениями Конвенции, многие проблемы в этом направлении остаются. Это проблемы несоответствия ключевых законов, в том числе Закона «О борьбе с коррупцией» и Уголовного кодекса КР, важным положениям Конвенции, в том числе в части определения и описания коррупции, криминализации тех или иных видов деяний, которые описываются Конвенцией как коррупционные преступления. Принятая Государственная стратегия антикоррупционной политики (февр. 2012) ставит задачу разработки и принятия принципиально нового закона по борьбе с коррупцией.
За период с 2005 по 2012 г. было принято три варианта государственной стратегии по борьбе с коррупцией. Анализ трех текстов показывает, что кардинальных и принципиальных отличий между ними нет. Все они достаточно декларативны, имеют мало практических и конкретных задач. По сути, они являются версиями, актуализированными и скорректированными в соответствии с изменившейся политической конъюнктурой или сменой власти.
Для успешной реализации антикорупционной стратегии должен существовать политический консенсус (или компромисс) между ветвями власти и между основными политическими силами в отношении целей стратегии, принципов реализации. Предыдущая стратегия не была выполнена, поскольку отсутствовала реальная политическая воля бороться с системной коррупцией. В настоящее время не отсутствие политической воли, а скорее конкуренция между ветвями власти оказывает негативное влияние на процесс выработки согласованной стратегии и антикоррупционной политики.
В реализации любой стратегии есть риски. В нашем случае такими рисками являются возможные нарушения гражданских прав, когда под лозунгом борьбы с коррупцией могут нарушаться права граждан и применяться чрезвычайные меры. Любые проблемы начинают объясняться коррупцией, что создает потенциальный простор для произвола и «охоты на ведьм». Рисками могут быть культурные факторы, неформальные правила, господствующие в обществе, роль и функции теневой экономики, которые не изучены на систематическом и междисциплинарном уровне.
Несущественные изменения в текстах стратегии при отсутствии принципиальных отличий в подходах борьбы против коррупции создают впечатление о формальности и декларативности подхода как к самому документу, так и к борьбе с коррупцией. Постоянное, но незначительное в содержательном плане изменение текстов стратегического документа по противодействию коррупции может вызывать скептицизм по поводу истинных целей, а также реализуемости данных документов, бесконечно сменяющих друг друга при каждой смене власти. В таких условиях никаких серьезных оснований полагать, что страна когда-нибудь «доживет» до институционализированных устойчивых механизмов и инструментов борьбы с коррупцией, просто не может быть. То же самое относится и к институтам гражданского контроля.
Хотя участие гражданского общества в реализации стратегии всегда указывается как важный принцип, на деле разработка и реализация механизмов сотрудничества между обществом и государством осуществлялись фрагментарно и непоследовательно. Ни одна из стратегий не получила широкого обсуждения среди общественности, и, по сути, формы так называемого «гражданского контроля» спускались этому самому гражданскому обществу уже постфактум. Попытки внедрения «сверху» каких-то механизмов, обеспечивающих гражданское участие (формально или реально), не всегда работают. Без активного участия самой общественности в разработке положений о тех или иных формах гражданского участия и контроля трудно прогнозировать результаты работы таких механизмов. Целесообразно задаться вопросом, в чем отличие между идеей создания общественных инспекторов и комиссий по предупреждению коррупции, предлагавшейся в стратегии 2009 г., но оставшейся нереализованной, между практикой деятельности общественных наблюдательных советов, внедренных после апрельских событий 2010 г., и предлагаемой новой идеей создания комитетов гражданского контроля (2012 г.)? Стоит ли так быстро отказываться от уже существующих моделей гражданского контроля, не взвесив плюсы и минусы?
Представляется, что для институционализации форм взаимодействия государства и гражданского общества нужно движение с двух сторон – со стороны высшего руководства страны и со стороны самих граждан и их объединений. При привычке наших властей постоянно менять и упразднять то, что уже было и на что потрачены ресурсы граждан и доноров, гражданским объединениям нужно стремиться к самостоятельным самоорганизационным формам работы в сфере гражданского контроля деятельности госорганов и борьбе против коррупции. Для этого нужно более последовательно и активно бороться за реализацию прав граждан, гарантируемых законодательно. Нет необходимости ждать решения, в какой форме государство позволит осуществляться гражданскому контролю, важно продолжать использовать и улучшать имеющиеся практики и опыт в виде общественных слушаний, проведения исследований, общественных экспертиз нормативных актов и решений, принимаемых государственными органами и высшими должностными лицами, развивать общественную адвокатуру.
[1] Вероятно, стоит отметить, что в 2009 г. авторским коллективом юристов был выпущен отчет по обзору нормативно-правовой базы по борьбе с коррупцией в Кыргызской Республике (под ред. К.Омуралиева), в котором констатировалось, что «…Правовая база КР позволяет эффективно осуществлять предупреждение и борьбу с коррупцией и организованной преступностью».
© 2005 – 2011 Институт общественной политики