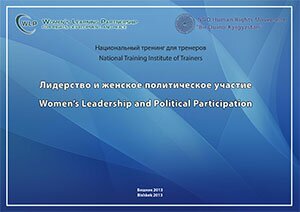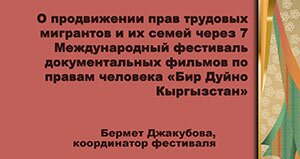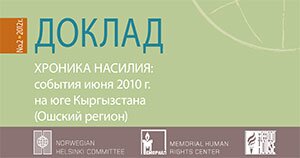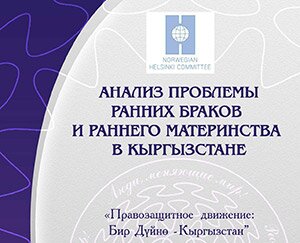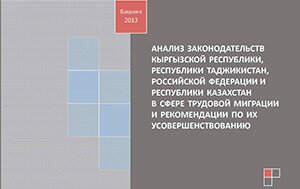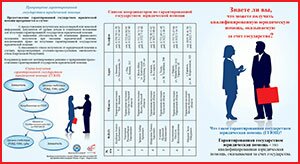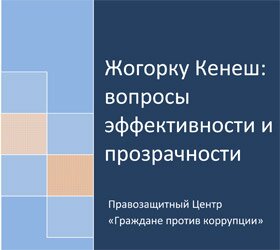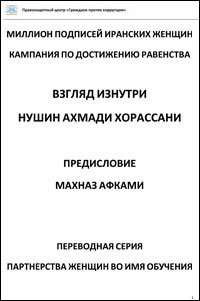Круглый стол по актуальным политвопросам проходил в «ВБ» в пятницу, 16 ноября, когда вышла в свет газета сразу с двумя «гвоздями номера». Это — статья публициста Эсенбая НУРУШЕВА «Предчувствие ползучего переворота» и интервью члена Центризбиркома Ишенбая КАДЫРБЕКОВА «Мертвые души остаются. Как и возможности массовых фальсификаций». Вместе с авторами публикаций в обсуждении поднятых проблем участвовали директор правозащитного центра «Граждане против коррупции» Толекан ИСМАИЛОВА и профессор КТУ «Манас» Алмазбек АКМАТАЛИЕВ.
Горький опыт кровавых трагедий и «кетсин–система»
“ВБ”: — Как добиться, чтобы наше государство было по–настоящему правовым? Чтобы ни одному парламентарию, вообще ни одному участнику пикета или митинга не могла в голову прийти мысль вдруг форсировать забор “Белого дома”. Чтобы государство, как пишет Эсенбай Нурушев, стало “не чем иным, как силой, отданной на служение праву”.
ИСМАИЛОВА: — Очень актуальная тема, она касается каждого кыргызстанца. Когда 7 апреля 2010–го на площади погибли 87 человек — это была ужасная трагедия. А когда в июньских событиях того года, по официальным данным, около 500 человек погибли? Никакая власть не может стоить даже одной человеческой жизни. Еще аксыйская трагедия 17 марта 2002 года должна была стать стратегическим уроком для милиции и всех правоохранительных органов, чтобы они в соответствии с Конституцией работали для человека, а не для своих карманов. А Генпрокуратура должна демонстрировать четкие процедуры, чтобы не нарушались права человека.
“ВБ”: — Утверждают, что политическая коррупция охватила Кыргызстан.
ИСМАИЛОВА: — Коррупция–то идет из внутренней политики каждой партии. Партия, прежде чем набирать членов, должна выстраивать высокие принципы прав человека и честности. А не привлекать криминальные элементы и необразованных людей с их ОБОНом. Отсюда и разговоры, мол, выпустите его, потому что он из нашего рода, клана и так далее. Речь идет о том, что каждый кыргызстанец — в том числе президент и депутаты ЖК — должны быть равны перед законом, тогда он будет работать.
КАДЫРБЕКОВ: — Вот я себе задавал вопрос, анализируя системы других государств: почему в парламентских странах не бывает революций? И почему там, где власть сосредоточивается в одних руках, возникает революционная стихия? Это, наверное, сама жизнь продиктовала, что люди стали формировать парламентскую систему, чтобы не было политических катаклизмов. То, что сейчас происходит у нас в стране, — это инерционность. Она будет длиться еще год, два, пока наши политики не поймут, что мы живем в совершенно другое время и другую эпоху.
“ВБ”: — Однако “кетсин–система” сохраняется.
КАДЫРБЕКОВ: — Сейчас у нас много экономических проблем, и кому мы скажем “кетсин”? Президенту — практически нереально, потому что за социально–экономические вопросы ответственно правительство. Парламенту? В ЖК и так “кетсин” происходит — борьба каждый день не на жизнь, а на смерть. Остается правительство, которое конституционно сегодня имеет безграничную власть.
Сейчас в Основном законе президент и ЖК не имеют других полномочий, кроме прямо указанных в Конституции. А вот “и другие” полномочия сейчас только у правительства. И когда люди недовольны социально–экономической ситуацией, они говорят: пусть уходит правительство. И оно уходит. Поэтому, я думаю, на горьком опыте двух революций Кыргызстан наконец осознал, что должен бороться не с какой–то личностью, а с системой. Менять базис, чтобы не было никаких политических катаклизмов. В этом плане, в отличие от многих стран на постсоветском пространстве, мы создали систему, дающую надежду, что у нас все более или менее получится хорошо.
“ВБ”: — А события 3 октября, когда депутаты решили, вместо того чтобы пройти через дверь, перелезть через забор?
КАДЫРБЕКОВ: — Это политический нигилизм отдельных личностей. Наверное, в школе они не читали Ленина о том, что революция происходит тогда, когда низы не хотят, а верхи не могут. Даже если бы захватили этот парламент, ничего бы не изменилось. Потому что народу в принципе нет дела до того, что там происходит. А в последних революциях народ был доведен до отчаяния и взиманием платы за соединение мобильной связи тоже. И когда самая трудная на подъем Нарынская область поднялась, я сказал: все, это конец. Поэтому к тем спорам, которые сейчас происходят в парламенте, отношусь очень оптимистично. Это хорошо. Был гной, который накапливался все 20–летие, теперь он выходит.
АКМАТАЛИЕВ: — В принципе разделяю оптимизм Ишенбая Кадырбековича. Мы все любим ссылаться на Запад — на США, Европу, мол, у них нет революций. Так они к этому шли лет двести–триста. А мы хотим все пройти за 10–15–20 лет. А правовой нигилизм простого населения — следствие неспособности власти осуществлять свои функции, грубо говоря, “политической импотенции”. У нас сейчас, конечно, законно избранная власть — были более или менее прозрачные выборы, но она не может обеспечить законопослушания (а обязана обеспечить!). Власть должна быть властью. Она должна быть сильной и ответственной, если мы ее избрали. А то как получается? Власть переходит туда и обратно. Если я отдал тот единственный голос, который у меня был, какой–то партии и лицу, баллотировавшемуся в президенты, теперь пусть они осуществляют власть.
“ВБ”: — Почему власть зачастую не уважают?
АКМАТАЛИЕВ: — Потому что, для того чтобы уважать власть, она должна быть честной и некоррумпированной. А пока власть не будет властью — в хорошем смысле слова — то никогда, тем более на Востоке, в такой стране, как Кыргызстан, — ее уважать не будут. Будут уважать только честную, решительную власть, жестко отстаивающую законы.
Думаю, что–то сдвинулось. Мы, может, эти вещи и не замечаем, но я не сторонник пессимистического подхода. Внутри каждой службы — правоохранительной и других — какие–то вещи происходят, какое–то внутреннее очищение. Да, может, будет мучительно больно, и никто не знает, сколько это будет длиться. Но я полагаю, возможно, и ошибочно, что процесс пошел.
Мы хотим из недоразвитого социализма перескочить в капитализм и чтобы проблем не было? Так не бывает.
ИСМАИЛОВА: — Но пример Монголии показывает, что как раз можно проскочить в капитализм и демократию.
У нас же конфликт интересов создает сам парламент: содержание одного депутата обходится бюджету в 120 тысяч долларов, что несравнимо с доходами учителей и пенсионеров, у депутатов есть 13–я зарплата и премии, как при социализме. Господа, зачем вы пришли в парламент? Чины себе придумывают, дают сами себе какие–то привилегии. Тут ветеран войны обслуживался в четвертой горбольнице, потому что в Национальном госпитале не было рентгена, а у 120 депутатов, как в советское время, и спецобслуживание, и спецбольница, и спецпансионат.
Рутина политической коррупции
“ВБ”: — Отвечает ли наш парламент требованиям настоящего парламентаризма?
ИСМАИЛОВА: — Наши парламентарии — монополисты в формировании собственного бюджета. Нет ни института, ни правил, которые бы их контролировали. Спикер раздает по 80 тысяч сомов на 8 Марта, мол, купите себе платье. Депутатам дают кредиты, чтобы они на народные деньги покупали себе квартиры. И кто им дал право за 500 тысяч сомов летать в Германию и лечить там свои болезни? Что за парламент? Совести у них нет — сын одного депутата работает у другого в комитете, чья–то дочь — в другом комитете. То есть семейно–клановая система процветает.
“ВБ”: — А в Центризбиркоме, который вы возглавляли?
ИСМАИЛОВА: — Я возглавляла его лишь 36 часов, увидела, что там творится, и хлопнула дверью. Ведь оказалось, что в ЦИК два бюджета — явный и тайный. Это же коррупция. А где сердце системы подсчета голосов, ГАС “Шайлоо”? Оно по–прежнему в “Белом доме”. Пусть меня Бог простит — покойный руководитель президентской администрации Медет Садыркулов был автором всех этих дел. Мы сказали: давайте реформировать списки избирателей, но исследование Ишенбая Кадырбекова показывает — ничего не меняется.
Сегодня мы живем в условиях рутинной политической коррупции. Страной раньше управлял то один, то другой клан, а сегодня — группа кланов и политиков. По официальным данным, с каждым днем у нас растет уровень бедности, народ недоволен. Множится число детей, которые не посещают школы. Увеличивается количество работающих несовершеннолетних. Выросло число детей, которые в конфликте с законом. Уголовный кодекс ориентирован только на интересы чиновников, следователей, милиции, которая незаконно задерживает людей и пытает их. Если подросток украл сотку, то он вместе с родителями откупается — это такая такса — двумя тысячами долларов.
“ВБ”: — А если привести гражданских людей руководить правоохранителями?
ИСМАИЛОВА: — Сейчас в МВД представителем гражданских институтов является только Атаханов, более или менее понимающий права человека. Но опять же один он не обеспечит перемен. Милиция — карательная, срослась с криминалом и политическими группировками. И даже когда идут большие нарушения, она бездействует. Огромное количество оружия у гражданского населения — острый вопрос для нашей общественной безопасности.
А будет ли работать Генпрокуратура справедливо, в соответствии с законодательством? Мы восемь лет трудимся в тюрьмах — ходим туда и видим, что происходит. И в тюрьмах есть группировки, которые работают на политиков, то есть революции могут быть через тюрьмы. Не боюсь об этом говорить. Но нужно, чтобы об этом говорили не только мы, но и институты, живущие на наши налоги, — милиция, ГКНБ, которая вообще не реформируется, а остается карательной.
Философия прыжка через забор
НУРУШЕВ: — Мы вообще неправильно понимаем саму суть демократии. У нас буквально классическая демократия, то есть власть народа. И еще в нашей стране процветает восточный политаризм — кто захватит власть, тот и распределяет по своим кланам все богатства.
“ВБ”: — Право первой ночи?
НУРУШЕВ: — Да уж, власть, государство у нас понимаются как политаризм, а демократия — как анархия. А нам бы надо просветить народ и перейти к постклассической демократии. Что это означает, очень хорошо объяснил Поппер.
А у нас же вообще ничего не читают. Кто–то съездил в Турцию или Японию, что–то там услышал, приезжает и говорит: вот, оказывается, там такое, давайте и у нас так же сделаем. Слушайте, мы — кыргызы! Не японцы. Не турки. Какая идея, какая матрица будет у нас работать, надо брать в расчет. У Гегеля есть замечательное выражение: “Каждая идея имеет свою зону применения”. А вне зоны своего применения любая идея даст обратный результат. Вот мы в таком положении.
Увы, у нас кто оказывается в верхних эшелонах власти, понимает государство как свою собственность. А народ все видит и говорит: “Ничего подобного, это не твоя собственность, дай нам власть назад, мы будем править”. Но народ — это же просто абстракция, а абстракция не может править.
ИСМАИЛОВА: — А где институты выборные, где конкурс, который должен дать умных людей?
НУРУШЕВ: — Вот именно, что Поппер разработал теорию открытого общества — демократия есть правление закона, а не народа. До этого в Германии была слишком классическая демократия. Гитлер говорил, что источник власти — народ.
Нам нужен такой просветитель демократии, как Поппер. Беда в том, что нет таких. Каждый президент, каждый премьер–министр, каждый парламентарий дает свое толкование демократии.
Еще один вопрос: что такое вообще сильное государство? Фукуяма выпустил большую книгу о строительстве государства. Он там проводит анализ, почему у латиноамериканцев не получилась реформа, а у азиатских стран получилась. Он пишет, что государственный аппарат у латиноамериканцев был совсем слабый. Азиатский госаппарат был гораздо лучше — по компетентности, скажем так, чистоплотности и порядочности. Думаю, Фукуяма абсолютно прав. Когда аппарат компетентный и чистый — возьмите, например, Сингапур, — на такую власть народ и равняется. И потом, такая власть имеет моральное право от имени народа защищать его же интересы. А у нас законы не соблюдают.
АКМАТАЛИЕВ: — Бисмарк в свое время сказал великолепную вещь: “С хорошими чиновниками и плохими законами еще что–то можно сделать, но с плохими чиновниками никакие законы не помогут”.
Когда мы говорим, что Кыргызстан может потерять государственность, меня удивляет появление множества всяких революционных комитетов — особенно в кыргызскоязычной среде. Складывается такое впечатление, что на нас кто–то напал и мы должны встать и защищаться. Но, с другой стороны, видимо, в народе существует какое–то понимание, что мы в принципе можем потерять государственность. Не знаю, откуда это, но считаю, что эти комитеты во многом правы. Хотя мне кажется, что угроза нашей государственности — внутри. Если экономика не будет расти, если власть будет бессильной и коррумпированной.
В Интернете я встретил отличную фразу насчет прыжка депутата Ташиева: это был “философский прыжок”, на котором революционный этап закончился. Начинается, наверное, какой–то другой этап, созидательный, что ли. Может, период сумасбродства, революций и должен был закончиться таким вот “философским прыжком”? Мол, все, ребята, точка, баста, дальше давайте работать.
Захват власти путем манипуляций
КАДЫРБЕКОВ: — Как все заметили, любые революционные катаклизмы происходят после окончания выборов. Что творилось во время акаевского и бакиевского правлений? Люди интуитивно понимали, что что–то не так с выборным процессом, кто–то манипулирует голосами.
За короткий период работы в ЦИК я убедился, что имеется рычаг влияния: выпускается лишнее количество бюллетеней на несуществующих людей, происходит их массовый вброс в день голосования. Вот откуда возникает недоверие к выборному процессу как со стороны населения, чувствующего, что у него украли голоса, так и со стороны противников властей. Люди говорили, что в протоколе было написано одно, а в ЦИК уходил протокол с другими данными. И когда такие факты игнорируются, то, по сути дела, происходят не выборы, а захват власти путем манипуляций. Пока у народа не будет доверия к процессу выборов, то и доверия к власти не возникнет.
“ВБ”: — Тот список избирателей, которым мы пользуемся, был составлен 10 лет назад.
КАДЫРБЕКОВ: — Да, за это время многие переехали в другие страны, происходило перемещение внутри страны, люди умирают. Не все смерти регистрируются в загсе. А мы выпускаем бюллетени, количество которых превышает реальное число избирателей. К примеру, на местных выборах в городе Караколе наблюдался вброс на сотни штук. Данные материалы есть. И те, кто это сделал, не понесли ответственности, хотя вопрос был поставлен.
Но при всем этом есть и позитивный момент: по сути, депутаты сами показывают, кто есть кто и чего стоит. Выборный процесс годами будет шлифоваться, постепенно очистимся от тех людей, которых уже узнали, какие они есть. Народу остается только одно: в будущем — отдавать голос тем, кто еще не потерял доверия.
ИСМАИЛОВА: — Фактически выборы контролируются властью по старым схемам. Они придумывают ухищренные способы, чтобы удержать власть. И мы это видим. С точки зрения демократических стандартов — это есть захват власти группой людей.
НУРУШЕВ: — В Британской энциклопедии написано, что первый признак коррупции и нарушения принципов свободы и демократии — нарушения на выборах. Все отсюда начинается. Нельзя сказать, что на Западе не бывает фальсификаций, они и там имеются. Но не так бессовестно, как бывало у нас.
Еще античный мыслитель говорил: если бы выборы что–то решали, тогда бы их давно отменили. У нас они ничего не решают, но их не отменяют. Потому что кому–то это нужно.
КАДЫРБЕКОВ: — Нельзя забывать, что мы все–таки пусть маленькое, но государство. Объем требований такой же, как для Китая или РФ. Парламент разрабатывает законы в таком же объеме и количестве. Вопрос стоит об их качестве.
Стоит сказать о корректности сопоставления затрат на парламент в сравнении с другими странами. Но в абсолютной величине нынешние затраты — это мизер. Согласен, затраты неоправданно велики. Но если поставим средний обслуживающий персонал, консультантов на сухпаек, то качество работы пострадает. Можно вместо 100 человек взять 20 специалистов, пусть, конкурируя с коммерческими организациями, получают высокую зарплату. Тогда один человек будет работать за десятерых. В исполнительной власти то же самое происходит, когда в министерствах получают зарплату четыре тысячи сомов. Поэтому образованные молодые специалисты не хотят в госструктуры идти. А какие стимулы могут быть?
АКМАТАЛИЕВ: — Моральные прежде всего.
КАДЫРБЕКОВ: — Ведь если человек боится потерять эту работу, тогда он потеряет и материальные стимулы. А когда мы даем четыре тысячи сомов и при этом говорим: выживай как можешь…
АКМАТАЛИЕВ: —…и не воруй!
КАДЫРБЕКОВ: — Это уже смешно! Сама система неправильна. Когда Бабанов на посту премьера начал говорить, что сократит аппарат чиновников на 30 тысяч человек, я смеялся. Ведь некоторые структуры до сих пор положения своего не имеют и не знают, чем они занимаются, и мы не знаем.
Нельзя требовать от народа исполнения права, когда сам не исполняешь закон, причем на высочайшем уровне. Пример: в Конституции написано, что руководитель администрации области назначается по представлению местного кенеша. Четко и ясно. Но областного кенеша–то уже нет! И, естественно, что нет и губернатора. Когда писали закон о правительстве, то вынуждены были придумать полномочного представителя. Параллельно был написан закон об административно–территориальной единице, где областей уже нет, но закон не принят. На конституционном уровне получилось так, что область без главы, а полномочный представитель без команды. Но в нарушение закона он управляет, получает зарплату. Народ видит, что на высочайшем уровне идет обман, и все молчат! Какое доверие может быть к этому правительству?! Прежде чем с кого–то спрашивать, сам сделай! Тогда у нас будет правовое государство.
АКМАТАЛИЕВ: — Честно говоря, когда очередное правительство заявляет, что намерено делать реформу, мне всегда становится не по себе. Какое правительство априори может делать реформу? Только то, которому народ доверяет. А как правительство, которому не доверяют, может что–то изменить? Изначально народ сопротивляется таким реформам, потому что не уважает он такое правительство, не верит ему.
Недавно по результатам соцопроса прозвучала информация, что президенту Атамбаеву около 70 процентов населения доверяет. Ну дай Бог! Значит, сейчас реформатором в хорошем смысле слова и локомотивом реформ должен быть президент, если у него такой высокий уровень доверия. Да, может быть, у него ограниченные возможности по Конституции. Но сейчас имеется уникальный шанс стать реальным лидером нации.
“ВБ”: — А частая смена правительства?
АКМАТАЛИЕВ: — Давайте возьмем акаевский и бакиевский периоды. За 20 лет сколько правительств сменилось! Сейчас 24–й премьер–министр по счету. Это означает, что в среднем даже при сильной президентской власти раз в год менялся состав кабинета министров. Тогда о чем мы говорим? Ничего страшного в смене правительств нет, к этому надо привыкать.
Почему мы говорим, что нас кто–то завоюет? Ведь понимаем, что живем в таком мире, где, во–первых, никому это не нужно. Мы находимся в системе мировых отношений, являемся членами ООН, ОДКБ, ШОС. Но мы можем потерять государственность, когда только де–юре будем считаться государством, а де– факто, если законы не исполняются, народ не уважает правительство, а правительству, извините, на народ наплевать, то не будем государством. Когда система власти не работает, это и есть потеря государственности. Меня больше всего волнует, что мы именно по этому пути идем. Нас никто не завоюет, но мы внутри себя просто–напросто как государство убьем.
Край смертельно опасных туалетов
ИСМАИЛОВА: — В Кыргызстане с самого начала сложилось искаженное понимание лидерства, оно какое–то криминализированное: если есть деньги, спортсмены, послушные люди, то можно сделать прыжок через забор “Белого дома”, при этом не понимая, что подобное деяние грозит статьей из Уголовного кодекса. Настоящее лидерство у нас не формируется.
И еще. Как можно говорить о реализации конституционных прав граждан об участии в госуправлении, когда доступа нет? Нет конкурса. Мы видим масштаб чиновничьего захвата, особенно после революции на уровне как местной, так и средней власти. Революционеры, которые абсолютно не занимались государственным управлением, теперь не могут отвечать на потребности людей, они просто пришли во власть, чтобы захватить доступ к ресурсам. Это такое горе для Кыргызстана! Но если эту ситуацию не переформатировать с помощью консультаций со стороны таких мозговых центров, таких аналитиков, как вы, то находящиеся во власти сами себя съедят.
Долго такая ситуация не может продолжаться Речь идет о том, что люди уже не могут жить так. Уже люди в туалетах умирают. Стыдно! В стране нет элементарного — нормальных туалетов, тогда о чем еще можно говорить? А при этом такую ораву чиновников содержим за счет бюджета, что он не выдерживает нагрузок.
АКМАТАЛИЕВ: — Вот говорят, нет конкурса и конкуренции. А я считаю, что одно из главных достижений новой парламентской системы то, что появилась конкуренция партий и движений. Все мы хотим, чтобы все проходило честно, прозрачно. Но и на Западе этого не было вначале. Главное, что процесс пошел. К примеру, сейчас 40 процентов депутатов — женщины…
ИСМАИЛОВА: — Нет! Только 21 процент женщин в ЖК, хотя по закону надо, чтобы их было 30.
АКМАТАЛИЕВ: — Но посмотрите: председатель Верховного суда, генеральный прокурор, министр финансов, председатель Счетной палаты — все женщины.
ИСМАИЛОВА: — По закону 30 процентов женщин должны быть представлены во всех государственных структурах. И в парламенте женщин изживают, потому что лидеры политических партий и основатели — это мужчины. Тенденция очевидна. Не надо, как в коммунистические времена, заигрывать, показывая, что у нас во власти женщины.
НУРУШЕВ: — Прежде всего, когда мы говорим о качестве истеблишмента, имеются в виду уровень образования, подготовленность, здоровье, и даже психическое. А у нас как получается: мы поголовно грамотная нация, а потом жалуемся, что в госаппарате мизерная зарплата.
ИСМАИЛОВА: — Тогда почему туда все рвутся? Воровать идут?
НУРУШЕВ: — Один байке просил помочь, лишь бы на должность попасть. Я спрашиваю, зачем, мол, ведь зарплата всего шесть тысяч сомов? А он мне отвечает: есть еще другие способы заработать. Вот так. Надо еще учитывать менталитет народа, все кыргызы хотят быть чиновниками. Этим надо переболеть.
Среди чиновничьего аппарата только два–три человека знают, что делать, остальные просто носят бумаги на подпись, потом занимаются интригами, и все. На законы не смотрят. Мы это знаем. Поэтому касательно кризиса лидерства, у нас кто победил, тот и управляет.
Вот посмотрите, кто приходит в парламент, президентский аппарат, правительство, тот обязательно кого–то уволит.
“ВБ”: — Хорошо, пусть на политические должности ставят партийных выдвиженцев.
НУРУШЕВ: — Но давайте разберемся, кто реально управляет государством? Думаете, президент, премьер–министр или парламент? Ничего подобного. Лев Карсавин, известный философ, в 20–х годах в своей книге “Восток — Запад и русская идея” говорит, что на самом деле правит бюрократия. Он называет бюрократию постоянным элементом власти, поскольку президента, премьера можно поменять.
АКМАТАЛИЕВ: — Да, бюрократия есть правящий класс.
КАДЫРБЕКОВ: — Стабильный госаппарат — это основа стабильности государства. Если вы помните, в Италии в 1996 году за год правительство поменялось 12 раз. Фактически весь год не было правительства, но страна не развалилась.
У нас тоже так сложилось, что в системе госслужбы попробуйте хоть одного человека увольте — это нереально! Мы можем говорить и о позитивном: сегодня достигли действия закона о госслужбе, благодаря чему смогли сохранить бюрократию от волюнтаристских наскоков приходящих–уходящих министров и их заместителей. Но есть одна хитрость. Если на высшем уровне меняется структура ведомства, то всех выводят за штат, а затем меняют. Вот Бабанов новую структуру принял, а затем почистил штат чиновников. Это наше кыргызское ноу–хау.
НУРУШЕВ: — Вы же подтверждаете все, о чем мы говорили.
КАДЫРБЕКОВ: — Суть госслужбы мы не должны менять. Я пришел к выводу, что тихонько, через катаклизмы, в отличие от соседних государств, Кыргызстан создает основу для будущей стабильности. У нас получилось обеспечить любой политический конкурс. Вот сегодня в Бишкекский горсовет идут более 20 партий. И попробуй скажи, что СДПК, “Республика” или “Ар–Намыс” победят? Ничего подобного! Неизвестно, чем выборы закончатся.
Из страны конфетку сделать
ИСМАИЛОВА: — Этот очищающий процесс дает основание говорить, что мы не то что теряем государственность, а, наоборот, закладываем фундамент для будущего нашей страны. Началась настоящая интеллектуальная борьба, чтобы прийти к власти самым молодым, креативным и умным. Сегодня граждане как никогда чувствуют перемены, мы прощаемся с авторитарными режимами, как постсоветским, так и тем, что сложился у нас в последние годы. На смену приходят интеллектуалы. Да, очень сложно сдвинуть с места революционеров. Но оптимизм есть, и он будет реально подкреплен, если люди во власти станут независимы друг от друга. Пока судебная власть находится в тисках той или иной политической группы, она не сможет работать на всю страну. Исполнительная власть также должна быть самостоятельной и фокусированной на реформы. Но ее пока не отдают. И еще бюджет получается таким, что все три ветви власти его съедают, а о народе забыли.
НУРУШЕВ: — Мы все хотим, чтобы государство сохранилось. И верим в это. Когда говорим о проблемах, это не означает, что завтра, как Ташиев, полезем через забор. Мы хотим, чтобы наше государство с этого момента стало цивилизованным. Конечно, со временем к этому придем. Классик говорит: почему мы все время заботимся о грядущих поколениях? Что они для нас сделали?
АКМАТАЛИЕВ: — Результат нужен сегодня. Видимо, общество — это большой макет отдельного человека. Чтобы каждый гражданин изменился в лучшую сторону, он должен испытать физический или интеллектуальный шок. После этого человек начинает задумываться: для чего я живу? Мне кажется, Кыргызстан уже пережил такой шок. 2010 год — это страшное потрясение, после которого мы должны измениться. Меня это настраивает на оптимистический лад, потому что очевидно, что дальше по–старому невозможно жить. 500 человек погибли на юге — ради чего?
Никто в Кыргызстан не придет, не устроит тот миропорядок, который мы хотим. Но мы должны сделать первый шаг, идти, у нас все получится. Но меня удивляет позиция некоторых деятелей, которые заявляют: шесть месяцев, как правительство Бабанова пришло, что изменилось? Сегодня уже Сатыбалдиеву говорят. Через год Атамбаеву об этом скажут. Все ждут, что придет идеальное правительство и завтра в семье сразу станет все хорошо. А такого не бывает!
Сейчас имеется уникальный шанс, когда политики, ученые, эксперты, независимые люди, которые задумываются о будущем государства, должны говорить правду: быстро измениться не получится! Мы должны честно и откровенно сказать, что все в наших руках.
ИСМАИЛОВА: — Мы поняли, что без духовности ни одно правительство не будет гуманным и эффективным. Нужны очень широкие консультации с нашей интеллектуальной элитой, творческими людьми. Без этой элиты, их анализа мы не сможем понять, куда идет Кыргызстан, чем занимается народ и каким должно быть правительство. Нужны руководителям советники, которые поэтапно давали бы оценку и прорисовывали шаги в будущее. Отрыв от духовности и контактов с интеллектуальной элитой порождает большие пороки власти. Восхищаюсь народом Кыргызстана. Мы показали миру, что демократия есть, народ хочет новой волны, новой системы и равного доступа к ресурсам. Если бы дали возможность, то можно было сделать такую конфетку из нашей страны!
Александр ТУЗОВ,
Бермет МАЛИКОВА.
Фото Сергея МЕДВЕДЕВА.














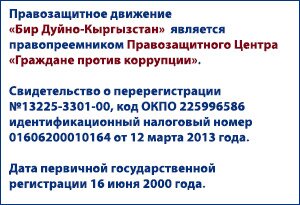
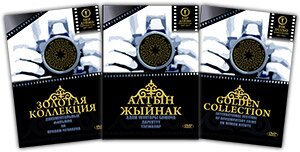

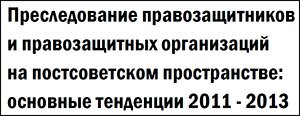
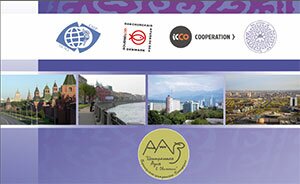 Отчет по результатам мониторинга услуг дипредставительств и консульств КР в России и Казахстане
Отчет по результатам мониторинга услуг дипредставительств и консульств КР в России и Казахстане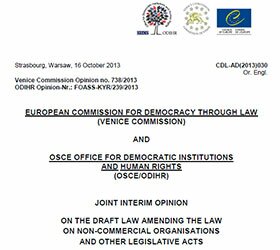 Joint Interim Opinion On The Draft Law Amending The Law On Non-commercial Organisations And Other Legislative Acts Of The Kyrgyz Republic
Joint Interim Opinion On The Draft Law Amending The Law On Non-commercial Organisations And Other Legislative Acts Of The Kyrgyz Republic