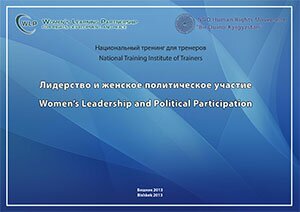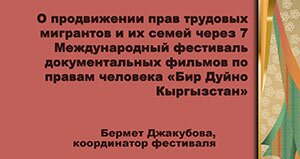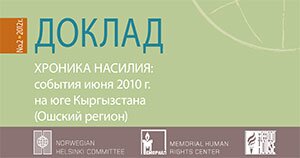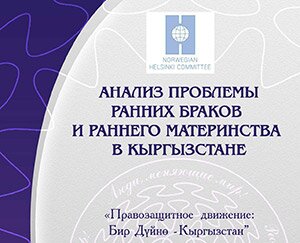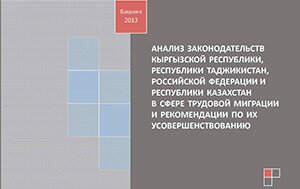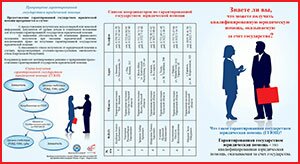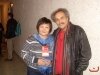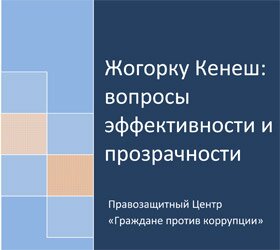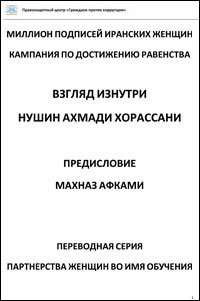Тюрьмы Кыргызстана в скором времени будут модернизированы. Доноры намерены не только отремонтировать обветшалые здания, но и возродить производство. Впрочем, это лишь часть задуманной масштабной реформы.
Некогда «зоны» славились тем, что там выпускался самый необходимый ширпотреб. Естественно, с развалом Советского Союза цеха прикрыли, и население лишилось дешевых пододеяльников, табуреток и насосов, а заключенные — заработка. Впрочем, возможность собрать деньжат к своему освобождению — не самое ценное в этом плане: важнее всего то, что заключенные не болтались без дела, деградируя от тоски и ощущения бесполезности.
Более того, такая бездеятельность провоцирует насилие и напряженность в среде заключенных, нарушения режима. Чем это может закончиться, говорить не надо: все прекрасно помнят трагические случаи в кыргызстанских тюрьмах, еще недавно имевшие место.
Почему и отчего, и что за этим следует
- 70 лет и система, и страны развивались одинаково. После распада проблемы, с которыми столкнулись, были очень похожи: переполненность, репрессивность методов и необходимость гуманизации процесса, проблемы реабилитации, предоставления освободившимся среднего, профессионально-технического и высшего образования, — рассказывает Вера Ткаченко, международный менеджер проекта Европейского союза и ЮНОДК по реформе пенитенциарной системы в Кыргызстане (ЮНОДК — Управление ООН по наркотикам и преступности). Все эти вопросы находились в ведении МВД (в 2002 году ГУИН передали под юрисдикцию Минюста — прим. ИА «24.kg»).
Чтобы преломить ситуацию, разрабатывается Национальная стратегия развития уголовно-исполнительной системы «Умут-2», которая предполагает до 2015 года реализовать достаточно подробный план мероприятий, результатом которых станет кардинальное улучшение всей тюремной системы. Это и положение заключенных с последующей реинтеграцией в общество, и состояние самих учреждений, и кадровый потенциал, и многое другое. На сегодня проведены определенные реформы.
- В 2006 году принята первая программа реформирования «Умут», закончившаяся в 2010-м, — продолжает Вера Ткаченко. — В 2007 году внесены важные изменения в законодательство, касающиеся гуманизации в отношении заключенных. Достигнуты и определенные успехи: снизилось число заключенных, стали пересматриваться вопросы менеджмента и управления пенитенциарными учреждениями, соблюдения прав осужденных. Гражданское общество развило систему мониторинга. Сейчас принимается упомянутая Национальная стратегия «Умут-2».
Она предполагает задействовать сразу несколько направлений: совершенствование законодательства, улучшение условий содержания заключенных, кадровую политику, медицинское обеспечение, социальную реабилитацию, альтернативное исправление преступников (не в изоляции от общества), развитие производств и получение профессионально-технического образования, сотрудничество с международными, неправительственными и религиозными организациями, СМИ.
Трудотерапия на фоне канализации
Один из аспектов — как раз создание приносящих доход производственных участков «на зонах» и улучшение инфраструктуры. Между прочим, производства — не только возможность дохода, но и начало социальной программы реабилитации осужденных.
Эксперты провели исследование пенитенциарных учреждений и выяснили: основная их потребность — в банно-прачечных комбинатах, хорошем водоснабжении и канализации, отоплении.
- В декабре 2010 года оценены закрытые исправительные учреждения и колонии-поселения, — рассказывает Вера Ткаченко. — Сейчас ждем рекомендаций от экспертов о том, какие виды производств следует внедрять в конкретной тюрьме или колонии. На базе большого земельного участка, например, фермерское хозяйство организовать, где и коров можно разводить, и как посевные площади использовать. Но это, конечно, подходит колониям-поселениям, где режим не столь строгий. А в закрытых учреждениях хотелось бы организовать такие производства, чтобы полученные навыки можно было использовать после освобождения.
Какие предложения? Участки по ремонту автомобилей, изготовление кирпича (в одном из учреждений раньше такой заводик работал, сейчас не хватает мощностей его запустить). На развитие производств нужно около 75 тысяч евро.
- В рабочей группе — представители ГСИН, министерств, бизнеса, — продолжает эксперт. — Будут ли рады сотрудничеству наши предприниматели? Не уверены, но важно начать. Государственная служба должна работать и в этих направлениях. Бизнесмены — люди предприимчивые. А налоговый комитет предоставляет ряд неплохих льгот для бизнеса, где работает определенная часть заключенных. Заинтересуются предприниматели — будут напрямую общаться с ГСИН. Помимо этого планируется разработать учебный курс по бизнес-менеджменту.
Лучшеет?
Пенитенциарная система Кыргызстана сегодня состоит из 11 исправительных колоний (включая 3 противотуберкулезных, одну женскую и одну для несовершеннолетних), 6 СИЗО и 15 колоний-поселений. За 20 лет все они привыкли, что бюджет на них «раскошеливался» не просто неохотно, а крайне скупо, отчего возникли трудности с исполнением даже основных функций системы — вроде охраны и конвоирования.
Самые, пожалуй, сложные времена были в период с 2002-го по 2006 год, когда из-за хронического недофинансирования не только разрушилась инфраструктура тюрем, а заключенные перестали получать положенные калории с лекарствами, но и резко возросла заболеваемость туберкулезом, наркоманией, ВИЧ-инфекцией. Впрочем, это не самое ужасающее: именно в тот период страну потрясли несколько трагических случаев, имевших место из-за обострившихся и фактически неконтролируемых отношений между персоналом тюрем и их обитателями. Этот кризис, к слову, и породил «Умут-1». Огромную помощь тут оказали и продолжают оказывать международные организации: ОБСЕ, БОМКА/КАДАП, Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, «Врачи без границ», Красный Крест. Именно они, как правило, реализуют всевозможные программы, направленные на улучшение условий и состояния заключенных и самих учреждений.
Итак, какие-никакие реформы уже были в нашей республике. Причем, по отзывам экспертов, результаты — не самые худшие. К примеру, идет тенденция сокращения заключенных: с 17 тысяч человек в 2004 году до 10 тысяч в 2010-м.
- Сокращение численности тюремного населения произошло за счет гуманизации. Сюда относятся освобождение по амнистии, применение альтернативного наказания (используется редко, так как нет эффективной службы пробации, которая могла бы содействовать исправлению правонарушителей на воле).
Куда деть смертников?
Осужденные на пожизненный срок должны отбывать его в колонии строгого режима. Но таковых в Кыргызстане нет. Потому содержатся они либо в изоляторах, либо в особых зонах обычных колоний.
- В 2007 году около 200 смертных приговоров пересмотрено на пожизненное заключение, — говорит Вера Ткаченко. — Однако в 2010-м статистика выросла: если в мае было 213 пожизненно заключенных, то к концу года их стало уже 243. Судьи объясняют это ростом особо тяжких преступлений. Много таких приговоров вынесли после ошских событий. Были разбирательства, когда из 19 проходящих по делу сразу 17 получили пожизненное. Но надлежащих условий нет. В принципе, мы не рекомендуем строить отдельную тюрьму для пожизненно осужденных: в других странах их распределяют с учетом возможного для окружающих риска. Несколько лет назад обсуждался вопрос создания колонии строгого режима. На нее потребуется около 300 миллионов сомов. В 2009-м дело сдвинулось, но после перечисления 30 тысяч заглохло. Но если финансировать подобным образом, на строительство нужной колонии понадобится 27 лет!
Кстати, экономисты подсчитали: на строительство одной тюрьмы тратится столько же, сколько на возведение университета.
Проблемы: и никуда не деться от этого?
Не будем брать сейчас во внимание нерешаемые проблемы вроде переноса тюрем соответственно дислокации населения, ибо наши пенитенциарные учреждения не соответствуют демографическим пропорциям. Большая их часть (68 процентов) — в Чуйской области, а вот на юге, в Нарыне и на Иссык-Куле, учреждений закрытого типа вообще нет, СИЗО нет в Баткенской, Джалал-Абадской и Таласской областях, отчего конвоирование преступников обходится в копеечку. Хотя в рамках стратегии предполагается все же построить новое учреждение для пожизненно заключенных. И даже создать два образцово-показательных учреждения, соответствующих международным требованиям.
На самом деле специалисты давно знают, что надо предпринять для улучшения ситуации. Во-первых, это гуманизация системы исполнения наказаний, чтобы она перестала ассоциироваться с бесконечным карательным процессом, помноженным на античеловеческие условия и попрание прав человека. Здесь нужны и альтернативные виды наказания, и снижение сроков заключения, и кропотливая работа с самими осужденными (причем как в стенах исправительного учреждения, так и на воле). Кроме того, требуется и финансовая помощь освободившимся — единовременные пособия, обеспечение одеждой-обувью, транспортными расходами и пайковыми.
- Тюремная система должна активно взаимодействовать с Минздравом, Минобразования, Минтруда, если мы хотим, чтобы эти люди вернулись в общество, — считает Вера Ткаченко. — Ведь они через 10 лет возвращаются совсем в другой мир! И та же привычная для нас оплата карточками для них может стать большой проблемой: эти люди привыкли быть в зависимости от администраций тюрем, распорядка, того, что все их действия спланированы кем-то другим. На свободе возникает проблема паспортизации: человек выходит только со справкой об освобождении и вынужден пройти через 10 кругов ада. А если он болен туберкулезом и нуждается в срочном лечении? И тут от него требуют документ, которого у него нет. Общество часто хочет забыть об этих людях. Но так не получается, они не на необитаемом острове живут! И от нас в том числе зависит, освобождаются ли готовые интегрироваться в общество люди или они озлоблены, готовы на рецидив.
Удастся ли воплотить?
Безусловно, какой бы замечательной ни была стратегия, ее реализация всегда сопряжена с рисками. В их числе, например, политическая ситуация, поскольку пенитенциарная система чрезвычайно чувствительна к ней.
- Во время апрельских и июньских событий кризиса в пенитенциарной системе не было — факт остается фактом, и это во многом заслуга тех, кто работает 24 часа в сутки в закрытых учреждениях, — признается эксперт. — В том числе это связано и с умелым руководством. Хотя с начала 2010 года несколько раз менялось руководство ГСИН. И проходили они болезненно.
Второй риск — кадры.
- Есть только небольшой учебный центр с маленьким профессорско-преподавательским составом, есть факультет, который действует при Академии МВД. Но это, скорее, пережиток прошлого, потому что мало кто из выпускников идет работать в пенитенциарную систему, — продолжает Вера Ткаченко.
Третий риск — законодательство: нужны новые документы, к примеру, о службе пробации. Разрабатывается и проект о превентивном наказании.
- Пока нет сложностей ни в выполнении проекта, ни в координации, ни в предоставлении статистики, — замечает Вера Ткаченко. — Наоборот, ГСИН согласился выносить на обсуждение общественности наболевшие вопросы, заинтересован в реформах. Важно определить приоритеты: какой мы хотим видеть пенитенциарную систему через 5 лет? В том числе и службу пробации. Это трехлетний проект, и мы не хотим замыкать все на себе. Важно, чтобы госорган брал на себя определенную ответственность. Важно, чтобы были ресурсы, и не обязательно деньги — база, оборудование, люди, которые там работают.
Постоянный адрес новости URL: http://www.24.kg/community/











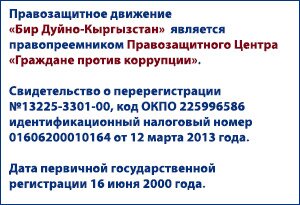
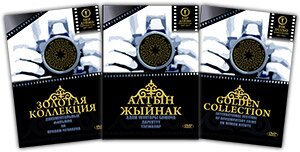

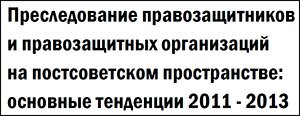
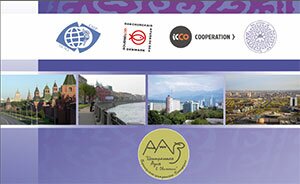 Отчет по результатам мониторинга услуг дипредставительств и консульств КР в России и Казахстане
Отчет по результатам мониторинга услуг дипредставительств и консульств КР в России и Казахстане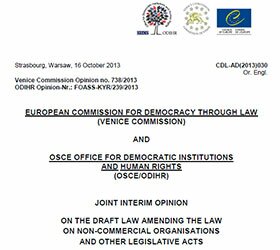 Joint Interim Opinion On The Draft Law Amending The Law On Non-commercial Organisations And Other Legislative Acts Of The Kyrgyz Republic
Joint Interim Opinion On The Draft Law Amending The Law On Non-commercial Organisations And Other Legislative Acts Of The Kyrgyz Republic